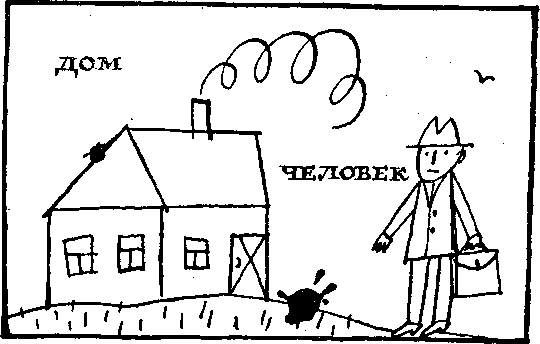
| <Prev | Contents | Next> |
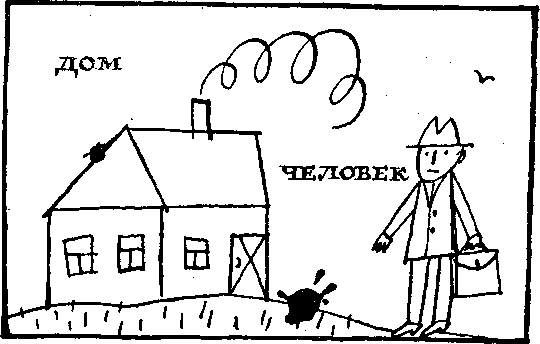
Это случилось лет шестьдесят назад. В номере какого-то журнала мне попался рассказ Куприна. Назывался он "Вечерний гость".
Насколько я помню, рассказ не произвел на меня большого впечатления; теперь я даже не скажу вам точно, о чем там говорилось. Но одна маленькая сценка из него навсегда врезалась мне в память, хотя в те дни мне было еще очень немного лет - десять или двенадцать, не более. Что меня в ней поразило?
В комнате сидит человек, а со двора к нему кто-то идет, какой-то "вечерний гость".
".. Вот скрипнула калитка... Вот прозвучали шаги под окнами... Я слышу, как он открывает дверь, - пишет Куприн. - Сейчас он войдет, и между нами произойдет самая обыкновенная и самая непонятная вещь в мире: мы начнем разговаривать. Гость, издавая звуки разной высоты и силы, будет выражать свои мысли, а я буду слушать эти звуковые колебания воздуха и разгадывать, что они значат... и его мысли станут моими мыслями... О, как таинственны, как странны, как непонятны для нас самые простые жизненные явления!"1
Прочитав тогда эти строки, я остановился в смущении. Сначала мне показалось, что автор смеется надо мной: что же нашел он удивительного в таком действительно обыкновенном явлении - в разговоре двух людей? Разговаривают все. Я сам, как и окружающие, каждый день разговаривал с другими людьми и дома, и в школе, и на улице, и в вагонах трамвая - везде. Разговаривали - по-русски, по-немецки, по-французски, по-фински или по-татарски - тысячи людей вокруг меня. И ни разу это не показалось мне ни странным, ни удивительным.
А теперь? А теперь я глубоко задумался. Действительно: как же это так?
Вот я сижу и думаю. Сколько бы я ни думал, никто, ни один человек на свете, не может узнать моих мыслей: они мои!
Но я открыл рот. Я начал "издавать", как написано в рассказе, "звуки разной высоты и силы". И вдруг все, кто меня окружает, как бы получили возможность проникнуть "внутрь меня". Теперь они уже знают мои мысли: ясно, они узнали их при помощи слов, через посредство языка. Да, но как это случилось?
Поразмыслите немного над этим вопросом, и вы убедитесь, что ответить на него совсем не легко.
Каждое слово состоят из звуков. В отдельности ни один из них ровно ничего не значит: "ы" - это "ы", звук - и ничего более; "р" обозначает "р"; "м" - звук "м".
Но почему же тогда, если два из этих звуков я произнесу подряд, вот так: "мы", - вы поймете, что я говорю "про нас"? А вздумай я произнести их наоборот: "ым", или поставить рядом другие звуки "ры", "ыр" - вы ничего бы не поняли.
Вспомните детскую игру - кубики. Пока кубики разрознены, на них видны лишь какие-то пятна. Но сто´ит их приложить друг к другу в определенном порядке, и перед вами выступит целая картина: красивый пейзаж, зверек, букет цветов или еще что-либо.
Может быть, в отдельных звуках тоже скрыты какие-то частицы, обрывки значения, которые просто незаметны, пока они разрознены? Если так, то необходимо эти таинственные частицы найти, и загадка наша решится очень просто.
Будь такое предположение правильным, достаточно было бы известным звукам придать определенный порядок, и получилось бы слово, понятное всем людям без исключения. Ведь кто бы ни смотрел на картину, сложенную из кубиков, он увидит на ней то же, что и любой из его соседей. Не менее и не более. Применимо ли это к звукам?
Однажды Тиль Уленшпигель, герой фламандского народа, - рассказывает в своей знаменитой книге бельгийский писатель де Костер, - "пришел в ярость и бросился бежать, точно олень, по переулку с криком: "Т'брандт! Т'брандт!"
Сбежалась толпа и... тоже закричала: "Т'брандт! Т'брандт!" Сторож на соборной колокольне затрубил в рог, а звонарь изо всех сил бил в набат. Вся детвора, мальчишки и девчонки, сбегались толпами со свистом и криком. Гудели колокола, гудела труба..."
По-видимому, для Костера несомненно: возглас "Т'брандт!" обязательно должен вызвать у людей самые бурные чувства.
Но представьте себе, что´ случилось бы, если бы по улицам того города или деревни, где живете вы, побежал человек, крича: "Т'брандт! Т'брандт!" Пожалуй, ничего особенного!
Конечно, за чудаком пустилось бы несколько любопытных мальчишек. Может быть, милиционер поинтересовался бы: не сошел ли гражданин с ума? Но, ясно, никого не охватил бы ужас, никому не пришло бы в голову бить в набат, трубить в рог и поднимать тревогу.
В чем же тут дело? Почему те звуки, которые довели сограждан Уленшпигеля до паники, ваших соседей оставляют совершенно равнодушными?
Дело просто. Подумайте, что´ произошло бы, если бы бегущий по вашей улице человек вдруг закричал не "т'брандт, т'брандт!", а "пожар"? Тогда уж в вашем городе возникло бы волнение. А вздумай веселый Тиль закричать "пожар!" у себя на родине, никакого переполоха ему устроить не удалось бы. Слово "т'брандт" означает "пожар" по-фламандски; русское слово "пожар" равно фламандскому "т'брандт". Только и всего!
Я сказал: "только и всего". Но, по правде говоря, здесь как раз и начинается великая странность.
Пять звуков: "б", "р", "а", "н", "дт", если они поставлены в определенном порядке, заставляют спокойного фламандца побледнеть от испуга. Они кажутся ему зловещими, тревожными. Состоящее из них слово вызывает в нем стремление спешить на помощь, тушить пламя, спасать погибающих. Может быть, действительно что-то есть в них связанное с бушующим огнем?
Но почему же тогда для нас они остаются простым сочетанием из пяти ничем не примечательных звуков, которое не означает ровно ничего? Почему пять других обыкновеннейших звуков - "п", "о", "ж", "а", "р" - способны вызвать волнение в каждом русском человеке.
Это крайне странно, если вдуматься. От звуков, входящих в слово "пожар", не веет гарью, не пахнет дымом... Сто´ит чуть-чуть изменить их порядок, сказать: "жорап" или "парож" - и их замечательное свойство что-то "говорить" исчезнет без следа. Это во-первых.
С другой стороны, если в слове "пожар" все-таки есть что-то, что может напомнить человеку о пламени, огне, страхе, несчастье, то почему это доступно только русскому слуху? Почему остаются совершенно равнодушными к нему люди других наций? Почему фламандец видит то же самое в своем отнюдь не похожем на "пожар" слове "брандт".
Да дело не только в этом "брандт".
Ведь, увидев горящий дом, турок скажет "янги´н", англичанин - "фа´йэ", француз - "энсанди´", финн - "ту´липалё", японец - "ка´дзи", китаец - "шихо", кореец - "хваде", а сенегалец "лаккаги". Между этими звукосочетаниями нет ровно ничего общего. Совершенно непонятно, как пять или десять ничуть друг на друга не похожих вещей могут все напомнить собою одиннадцатую вещь, да притом не похожую ни на которую из них порознь.
Ведь это столь же невероятно, как если бы три человека, увидев, скажем, паука и желая передать свое впечатление от него, нарисовали бы на бумаге: один - корову, второй - паровоз, а третий - дерево...
Я протягиваю вам без единого слова бутылку. Видите, на ее этикетке нарисован такой страшный знак.

Вы без слов поймете, что не следует пить жидкость, находящуюся в этом сосуде. Это и неудивительно: череп и кости любому человеку напомнят об опасности и смерти.
Если вы идете по улице городка где-нибудь в чужой стране и видите магазин, над непонятной вывеской которого красуется огромная перчатка, а рядом - другой, перед которым укреплен золоченый крендель, вы легко разберетесь, где здесь булочная и где галантерейная лавка.
Нет надобности разъяснять, ка´к именно вы дойдете до верного решения: между "кренделем" и "булочной", между "перчаткой" и "галантереей" есть прямая, существенная связь.
Но почему звуки, из которых состоит слово "яд", могут также напомнить вам о смертельной опасности, остается, если вдуматься, совершенно непонятным. Между ними и смертельной силой, скрытой в ядовитом веществе, равно ничего общего нет.
Видимо, эта самая странность и поразила того, кто написал "Вечернего гостя", потому что все сказанное выше действительно представляется довольно загадочным. Таинственным, если хотите.
Но ведь ученые умеют раскрывать самые сложные тайны и загадки окружающего нас мира. Наука о человеческом языке, о том, как люди говорят между собою, называется языковедением.
Одной из задач языковедения и является: узнать, когда и как человек научился говорить. Как овладел он искусством называть вещи именами, которые на самые вещи ничем не похожи? Как привык по этим именам судить о самих вещах? Как удается ему выражать свои мысли при помощи звуков, ничем, по-видимому, с этими мыслями не связанных?
Правда, если поставить себе прямой вопрос: почему люди, каждый на своем языке, называли дом "домом", а дым - "дымом" или почему никто не назовет дом "тифуфу" или "будугу", хотя в то же время одни именуют его "ev" ("эв", турки), другие "maison" ("мэзон", французы), третьи "haz" ("хаз", венгры), - если спросить именно об этом, вряд ли удастся получить короткий, ясный ответ.
В разное время ученые, однако, старались как можно ближе подойти к решению этого вопроса. И по дороге к этой величайшей из тайн языка, может быть до конца необъяснимой, им удалось сделать немало очень крупных открытий.
Поговорим же о некоторых из них.
Что мы подразумеваем под словом "язык"?
Один говорит, то есть, двигая губами и языком, "издает звуки разной высоты и силы".
Другой слушает и понимает его, то есть при помощи этих звуков узнаёт мысли своего собеседника. Вот это явление мы и называем "языком".
Язык - удивительное орудие, посредством которого люди, общаясь между собой, передают друг другу свои мысли, любые мысли. Именно в языке они закрепляются: и каждая в отдельности и все мысли человечества в их величавой совокупности. Именно язык хранит и бережет все людское познание с древнейших времен до наших дней, делает возможным само существование и развитие человеческой культуры.
Не случайно у многих народов два предмета, ничем не похожих один на другой - мясистый, подвижной орган вкуса, помещающийся во рту, и человеческая способность говорить и понимать собеседника, - издавна именуются одним и тем же словом.
По-русски и то и другое называется "язык".
У французов и язык коровы, который ничего сказать не может, и французская речь одинаково будут "ланг" ("langue").
По-латыни слово "ли´нгва" ("lingua") также означает одновременно и способность речи и ее главный орган.
Это давно уже обращало на себя внимание людей:
Язык мой - враг мой: все ему доступно,
Он обо всем болтать себе привык...
Фригийский раб, на рынке взяв язык,
Сварил его...2
Так, пользуясь двойным значением этого слова, играет им великий Пушкин; играет потому, что язык для нас прежде всего звуки нашей речи.
Это бесспорно. Но тем не менее, разве не приходилось вам когда-либо встречаться с беззвучным, непроизносимым и неслышимым языком?
Бывает так: никто ничего не говорит. Никто ни единого звука не слышит и даже не слушает. И все же люди оживленно беседуют. Они великолепно понимают друг друга: отвечают, возражают, спорят...
"Похоже на сказку", - подумаете вы. Между тем это странное явление и в этот миг перед вами.
Вы читаете то, что я написал. Выражая мои мысли, я изобразил эти слова на бумаге много времени назад и за много километров от того места, где вы живете. Вы не знаете меня; я никогда в жизни не видал вас. Вы ни разу не слыхали моего голоса. Тем не менее вы вступили в беседу. Я рассказываю вам то, что думаю, и вы узнаёте мои мысли по поводу различных вещей.
Видимо, письмо - тот же язык. А разве это, в свою очередь, не поразительнее всех так называемых "чудес" мира?
Когда великий мастер слова и тончайший знаток русского языка Алексей Максимович Пешков, Максим Горький, был еще подростком, он взялся обучить грамоте одного своего старшего приятеля, умного и пытливого, но совершенно необразованного рабочего, волгаря Изота. великовозрастный ученик взялся за дело усердно, и оно пошло успешно. Но, учась, Изот не переставал простодушно дивиться поразительному "чуду грамоты", чуду письменного языка, и жадно допытывался у своего учителя:
"Объясни ты мне, брат, как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я знаю их - слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны, - как это?"
"Что я мог ответить ему?" - с виноватым огорчением пишет Горький. И если бы вы сами попробовали поразмыслить над недоуменным (а ведь таким с виду простым!) Изотовым вопросом, вы убедились бы, что ответ на него дать вовсе не легко.
Попробуем рассуждать логически.
Вот сидит передо мною и умывается лапкой небольшое домашнее животное всем хорошо известного вида.
Если вы даже не очень талантливо нарисуете мне такого зверька, я, естественно, пойму, про кого вы думали, рисуя: про кота. Пойму я и другое: ка´к и почему я это понял; картинка ведь похожа на самое животное. "Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно", - справедливо заметил Изот.
Но если вы начертите передо мною на бумаге три странные закорючки - букву "к", напоминающую какую-то подставку, букву "о", похожую на кружок, и букву "т", имеющую сходство с тремя столбиками, накрытыми крышкой, с гвоздем или с молоточком, - тут уж очень нелегко сообразить, как и почему этот причудливый рисунок заставил меня сразу вспомнить о двух друг друга ничем не напоминающих вещах: во-первых, о пушистом маленьком домашнем зверьке и, во-вторых, о трех произнесенных в определенном порядке звуках человеческого голоса.

Ведь звуки-то эти - вы, я надеюсь, согласитесь со мною - решительно ничем не похожи ни на кошачье мяуканье, ни на мурлыканье, ни на ворчанье кошки.
Вид поставленных рядом на бумаге трех букв - "к", "о", "т" - тоже ни с какой стороны не похож на подвижного, веселого зверька. Так что же связывает между собою три эти совершенно разнородные вещи? Почему сто´ит мне увидеть живого котенка, как мгновенно, точно по мановению волшебного жезла, и надпись "кот" и слово "кот" возникнут передо мною? Почему, едва я услышу громкий крик: "Кот, кот!" - или даже самый тихий шепот: "Кот!" - я сейчас же пойму, что где-то около находится не заяц, не еж, а именно вот такое животное?
Человек ограниченный и .равнодушный пожмет плечами: "Есть над чем голову ломать! Так уж повелось, и все тут..."
Но пытливый ум не пройдет спокойно мимо этого загадочного явления. Неудивительно, если оно поразило озадаченного Изота; ведь и сам юноша Горький задумчиво морщил лоб, не находя должного объяснения непонятному "чуду".
Много веков человечество видело именно "чудо" во всех явлениях языка: нашей звуковой, устной, речи и нашего письма. И только теперь, в самые последние десятилетия, люди начали одну за другой разгадывать его увлекательные тайны. Окончательно же раскрыть их, несомненно, еще предстоит языкознанию. И кто знает - может быть, это сделает кто-либо из вас, моих сегодняшних читателей.
Быть ученым и разгадывать тайны языка - увлекательное занятие. Но даже в самой обыкновенной нашей жизни, в повседневной работе бывает очень полезно ясно представить себе, как же именно эти два языка - речь устная, звуковая, и письменная речь, - как они связаны друг с другом. Эта связь не так уж проста и пряма, как это может показаться с первого взгляда.
Когда вы пишете письмо вашему преподавателю русского языка, вы обращаетесь к нему так: "Здравствуйте, Павел Павлович!" А встретив его на лестнице вуза, на бегу, второпях, вы радостно вскрикнете: "Здрассь, Палпалч!" - и он не очень удивится этому. Вы говорите: "Сонца взашло", а пишете: "Солнце взошло". Слово, которое на письме выглядит, как "полотенце", вы произносите довольно неясно, вроде "п'латенц". Более того, попробуйте выговаривать его в точности так, как оно изображается буквами на бумаге - "полотенце" - вам сделают замечание: так произносить это слово "не принято"! "ПОлОтенцО" звучит в речи только некоторых граждан нашей страны, живущих в определенных местностях, - например, у горьковчан, вологодцев, архангелогородцев.
Но если вы попытаетесь, наоборот, написать "пылатенца", так, как вам позволяют его выговаривать, - красный карандаш преподавателя отметит сейчас же на полях вашей тетрадки ошибку, да еще не одну, а две или три. Почему это так?
Почему слово "ночь" надо писать с мягким знаком на конце, а слово "мяч" - без него? Вслушайтесь повнимательней в эти слова; можно поручиться, что звук "ч" произносится совершенно одинаково в обоих этих случаях.
Точно так же почти одинаково произносятся окончания слов "спится" (в выражении "мне что-то плохо спится") и "спица". Еще больше сходства между двумя разными формами одного и того же глагола: "спится" и "спаться", а ведь пишем мы их по-разному. Было бы гораздо легче не делать ошибок в правописании, если бы можно было понять, от чего тут зависит разница, в чем ее причина: всегда проще запомнить правило, основания которого ясны, чем правило непонятное.
Вот видите, начали мы с глубокого теоретического вопроса о великом "чуде" письменного языка, который наряду с языком устным находится в распоряжении человечества. А дошли до вопросов, может быть, и не таких "глубоких", но зато очень существенных для каждого человека, - до ошибок правописания и не всегда понятных орфографических правил.
Повторю еще раз: чтобы хорошо знать правила и без труда подчиняться им, нужно понимать, на чем они основаны. А понять основания, на которых зиждутся правила нашего правописания, может лишь тот, кто досконально разберется в вопросе более широком - о связи между обоими видами нашего языка - устным и письменным.
Сделать это можно. Но предварительно нельзя не обратить внимания на очень важное обстоятельство: рядом с уже упомянутыми двумя языками, устным и письменным, человек владеет еще третьим видом, третьей формой речи, может быть, самой удивительной из всех. Вряд ли вы сами догадаетесь, о чем я говорю. Придется ввести вас в совершенно незнакомую для вас доныне область языковедения.
Странные слова, которые я только что написал, не выдуманы мною. Я нашел их в одном из стихотворений известного русского поэта Фета, жившего в прошлом столетии.
Афанасий Фет был крупным художником слова. Но в то же время много раз в различных своих произведениях он радовался на несовершенство человеческого языка. Фет думал сам и уверял других, будто мысли человека, так же как и его чувства, гораздо богаче, ярче, точнее и полнее тех грубых слов, в которых они выражаются:
Как беден наш язык: хочу и - не могу!
Не передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною!
Фет мечтал научиться передавать другим людям свои мысли без посредства слов, как-нибудь помимо языка: "О, если б без слова сказаться душой было можно!" - восклицал он.
Но он, по крайней мере, считал, что если не каждый человек, то хоть поэт, художник слова, имея "божественный дар", может выражать с совершенной полнотой в словах все, что ему вздумается:
Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души и трав неясный запах...
Были скептики, которые и в это не верили. Поэт Федор Тютчев, например, прямо говорил: "Мысль изреченная (то есть высказанная) есть ложь"! В мрачном стихотворении, которое так и названо - "Молчание", он каждую строфу заканчивал зловещим советом: "молчи!"
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими - и молчи!
Если поверить этим стихам, получается так: где-то в голове у человека живут его мысли. Пока он думает, никакие слова, никакой язык ему не нужен: думать-то можно и без слов, не говоря ничего!
Беда только в том, что люди не способны без помощи слов обмениваться этими мыслями, делиться ими друг с другом. Чтобы передать их другому, приходится мысли как бы "упаковывать" в слова.
Это трудно: хрупкие, нежные мысли портятся, искажаются; пропадают их яркие краски, ломаются нежные крылышки, как у редких бабочек, которых вы вздумали бы пересылать знакомым по почте в бумажных конвертах... "О, если б можно было пересылать друг другу мысли без грубых конвертов-слов!"
Людям в прошлом часто приходили в голову подобные желания. Но спрашивается: не ошибались ли те, кто рассуждал так?
У английского романиста Уэллса есть фантастическое произведение: "Люди как боги".
Несколько рядовых англичан - все люди из среднего зажиточного класса - удивительным образом попадают в фантастический мир будущего; там живут могущественные и мудрые "люди как боги". Они на много опередили Англию и всю Землю по развитию своей культуры.
Радушно встречают люди-боги полудиких, по их мнению, "землян" с их нелепыми зловонными автомобилями, некрасивой одеждой и отсталым умом. Ученые людей-богов красноречиво объясняют пришельцам устройство и жизнь прекрасного, но чуждого "землянам" мира.
Объясняют?! Позвольте, но как? Откуда же "людибоги" могут знать язык англичан, которых они никогда не видели, или тем более откуда английские буржуа могли узнать их неведомый доселе язык?
Одного из англичан, редактора журнала мистера Барнстэппла эта неожиданность поражает больше, чем все чудеса нового мира. Он задает недоуменный вопрос тамошнему ученому и получает от него еще более неожиданный ответ. Ученый говорит примерно так:
"Напрасно вы думаете, что мы беседуем с вами на вашем языке. Мы и друг с другом давно уже перестали разговаривать, пользоваться для общения языком. Мы не употребл.яем слов, когда обмениваемся мыслями. Мы научились думать вслух.
Я думаю, а мой собеседник читает мои мысли и понимает меня без слов; зачем же нам язык? А ведь мысли-то у всех народов мира одинаковы, различны только слова. Вот почему и вы понимаете нас, а мы вас: различие языков не может помешать этому..."
Тютчев, Фет и их сторонники возрадовались бы, услыхав о такой возможности: в вымышленном Уэллсовом мире можно, оказывается, "сказываться душой, без слов". Все дело, значит, в развитии культуры: может быть, когда-нибудь и мы, люди, на самом деле дойдем до этого!
Сто´ит заметить, что не одни только поэты позволяли убедить себя в осуществимости таких фантазий. Некоторые ученые-языковеды, рассуждая о будущем человеческой речи, приходили порой примерно к таким же выводам. Так заблуждался, например, советский ученый Марр. Марр считал, что общение людей можно осуществлять и без языка, при помощи самого мышления.
Это совершенно невозможная вещь, полагает современное языкознание. Никакая мысль не может родиться в голове человека "в голом виде", вне словесной оболочки. Чтобы подумать: "Вчера был вторник", надо знать слова "вчера", "вторник", "быть"; надо суметь связать их в одно целое. Мыслей, свободных от "природной материи языка", нет и быть не может, так же как не может быть человеческой "души" без человеческого тела.
Чтобы понять, почему же нельзя обмениваться мыслями "без слов", надо предварительно установить: а что же представляют собою они, "мысли"? Говорим мы "словами"; спрашивается: "чем же" мы думаем? Что такое человеческая мысль? Возьмем один из простых математических законов:
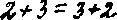
"Сумма не изменяется от перестановки слагаемых". Это мысль? Конечно!
Но ведь "состоит-то" она из слов? Она воплощена, выражена в словах, и трудно представить себе, как могла бы выглядеть она, если бы мы попытались освободить ее от этой "словесной оболочки".
Может быть, это потому, что я вознамерился передать эту мысль вам? Пока она жила в моей голове, она, может статься, выглядела иначе? Может быть, думал я без всяких слов и только потом уложил готовую мысль в "словесные конверты"?
Попробуйте сами разобраться в этом; вы почувствуете, до чего сложен на первый взгляд такой простой вопрос. Чтобы по-настоящему ответить на него, нужно начать рассуждение издалека.
Итак, следите за этим моим рассуждением.
Несколько веков назад существовал в мире страшный обычай: за некоторые преступлений человеку отреза´ли язык.
Разумеется, после этого он терял способность говорить. Его начинали называть "немым", "безъязычным". Но можно ли сказать, что, теряя способность произносить слова, такой несчастный калека действительно лишался полностью и той способности, которую мы называем человеческим языком?
Нет! Ведь изувеченный человек этот мог свободно слышать все, что вокруг него говорили другие; мог понимать их речь, узнавать через их слова их мысли. Значит, половина возможности пользоваться звуковым языком у него сохранилась.
Более того: если он был грамотным, он мог и теперь читать и писать; писать слова и понимать их. Следовательно, он все еще владел и письменной речью.
Видимо, потеря органа речи, языка, вовсе еще не делает человека полностью "безъязычным".
Вообразите себе более тяжелый случай. После какой-нибудь болезни, после ранения во время войны человек может не только онеметь, но сразу и оглохнуть и даже потерять зрение. Ни слышать речь других людей, ни читать, ни писать он теперь уже не способен. Значит ли это, что на сей раз способность пользоваться языком окончательно оставила его?
Как вы думаете: если такой несчастный является человеком мужественным и твердым, разве не может он подумать, мысленно сказать самому себе: "Нет! Я не сдамся! Я буду бороться!"
Разумеется, настоящий человек, достойный этого звания, таи и подумает. А если человек может сказать самому себе такие мужественные слова, то не очевидно ли, что в его распоряжении остался, может быть, самый удивительный из всех человеческих языков, не звуковой - устный, не рисованный - письменный, а третий, безмолвный, внутренний язык, внутренняя речь?
Внутренняя речь? А что это такое?
Закройте глаза. Сосредоточьте внимание. Как вам кажется: можете ли вы подумать что-нибудь самое обыкновенное, ну хотя бы: "На улице стоит дом"?
Отчего же нет? Разве это так трудно?
Это нетрудно; но вот отдать себе отчет, ка´к именно вы это делаете, много труднее. Попробуем, однако же, разобраться в нашем собственном "думанье".
Прежде всего вы, очевидно, можете представить себе какой-нибудь дом, возвышающийся над тротуаром, вообразить нечто вроде картинки: "Дом на улице". Это, безусловно, возможно: иначе никто и никогда не был бы в состоянии описать дом и тем более нарисовать его "наизусть", не видя. А ведь художники постоянно рисуют, не глядя на натуру, и улицы, и дома, и людей...
Но обратите внимание вот на что. Если направиться по этому пути, перед глазами неизбежно явится не "просто дом", "не дом вообще", а "лом определенный", "такой-то дом", с длинным рядом ему одному присущих признаков. Допустим, вам привидится теплый низенький деревенский дом, плотно укутанный в снежное одеяло, темнеющий на углу сельских улиц. Помните:
Вот моя деревня,
Вот мой дом родной...
Крестьянин по происхождению, Суриков, когда писал эти строки, представлял себе, конечно, именно такой маленький, рубленный из бревен дом-избу, в каком протекло его деревенское детство.
Совсем иное дело дома, изображенные Пушкиным в знаменитых картинах "неугомонного" веселящегося дворянского Петербурга:
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы, рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.
Общего между пушкинским и суриковским домами, как видите, очень немного, и вряд ли можно вообразить такой "дом", который совмещал бы в себе признаки того и другого.
Каждый из нас может без труда вызвать в уме образ деревянного одноэтажного дома с десятью окнами, крыльцом и двумя печными трубами на крыше или высотного колосса в двадцать мраморных и бетонных этажей. Можно мысленно воссоздать портреты разных домов - красивого Или жалкого, современного или старинного, только что построенного или же превращенного временем в ветхую руину. Но какими бы мы их себе ни представляли, всегда это будет "вот такой-то", "данный", "единственный в своем роде", определенный дом.
Иной раз нам ничего большего и не нужно, вот как в данном случае: я ведь просто просил вас подумать: "дом". Все равно какой! Выходит, что думать образами, "картинами" вещей, умственными представлениями о них можно, хотя эти "образы" и бывают только частными, необобщенными...3 Должно быть, из них все же и слагаются наши мысли... Но так ли это?
Попытаемся "подумать" что-либо более сложное; не просто подумать: "дом", а, так сказать, подумать "чтонибудь про дом".
Мне опять вспоминаются бессмертные стихи Пушкина: Татьяна
шла, шла... И вдруг перед собою
С холма господский видит дом...
Способны ли вы и эти строки представить себе в виде картины или хотя бы в виде ряда связанных одна с другой, сменяющих друг друга картин?
Что ж? Пожалуй, можно довольно ясно увидеть в воображении старинный дом - богатый, с колоннами, сад вокруг него и юную девушку в платьице прошлого века, смотрящую на него с вершины холма... Все это, если вы художник, легко набросать на холсте или листе бумаги. Но попытайтесь вашим наброском, как бы тщательно и подробно вы его ни исполнили, передать, что этот дом не просто "стоит" перед за´мершей на пригорке девушкой, а что она его "вдруг увидела", да еще не сразу, а после того, как она "шла, шла"... Как бы вы ни трудились, ничего этого вашим рисунком или даже целой серией рисунков вы никогда не расскажете: ведь в кинофильмах часто приходится прибегать либо к звучащей речи героев, либо к объяснениям диктора и подписям внизу экрана.
А в то же время просто и без затей подумать: "Татьяна внезапно увидела с вершины холма, на который поднялась, барский дом Онегина", - легче легкого; это ничуть не труднее, чем вообразить этот дом двухэтажным, с мезонином, а девушку - худенькой и в белом платье.
Почему же одно невозможно, а другое легко? В чем тут дело?
Чтобы подойти к ответу на этот вопрос, возьмем еще один стихотворный отрывок, в котором также упоминается слово "дом".
Я пробую восстановить в памяти "Вечерний звон" слепого поэта И. Козлова. Я дошел до строк:
Вечерний звон в (?) родном,
Где я... (?), где отчий дом...
И тут у меня вдруг "заколодило". В течении моей мысли получились какие-то пропуски. Я не помню, в чем "родном" звучал вечерний звон. Я забыл, что´ именно делал автор в тех местах, где был расположен его отчий дом... Я мучительно стараюсь вспомнить это. Я подыскиваю заполнение для пропусков: "в селе родном"? Нет, не так! Может быть, "в лесу родном"? Опять не то... И, наконец, вспоминаю: "в краю родном, где я любил", а не "где я дышал", не "где я возрос"... Вот теперь все ясно.
Скажите, когда с вами происходят такие заминки мысли, вы ищете чего? Образов, картинок "леса", "села", "края"? Да конечно, нет! Вы ищете слов, и это особенно ясно при вспоминании стихов, потому что тут вам приходится перебирать только такие слова, которые могут уложиться в размер и рифму. Именно поэтому вы можете колебаться между словами "край", "лес", "село". Но вам никогда не представится образ "деревни". Почему? Очень просто: слово "деревня" не умещается в козловской строке.
Разве это не показывает вам, что вы мыслите не образами, а словами? Да иначе невозможно мыслить еще и по другой важнейшей причине.
Вдумайтесь в слово "дом", в то, как оно звучит и что значит в этих меланхолических строчках. Какой именно образ нарисовали бы вы, чтобы передать представление о "доме", упоминаемом Козловым? Тут и речи быть не - может ни о "маленьком", ни о "каменном", ни о "двухэтажном", ни вообще о каком-либо вещественном, "материальном" доме. Здесь слово "дом" означает вовсе не "здание", не "постройку". Оно значит тут "родина", "родное место". Сочетание "отчий дом" можно, не меняя общего смысла, заменить на "отеческие кущи", "родимый край" или даже "семейный очаг". Попробуйте же вообразить себе "в виде картинки" этакий "никакой", отвлеченный дом. Это решительно невозможно. А в то же время подумать "отчий дом" или "где под каждым ей листком был готов и стол и дом" - проще простого, и мы делаем это поминутно. Как? Разумеется, при помощи слов, а не образов, при помощи "понятий", а не "представлений".
Ну что ж! Теперь все ясно: думаем мы не образами, а словами. Мысль, даже еще не высказанная вслух, уже воплощается в слова в мозгу человека. Наверное, вы замечали у многих людей привычку, размышляя, шевелить губами. Это не зря: это в голове думающего шевелятся непроизносимые им, но уже рождающиеся мысли-слова, рвущиеся во внешний мир. Человек "про себя" произносит свои мысли, как предложения. Иногда, впрочем, в мозгу возникают не звуковые, а молчаливые, "письменные" обличья слов. Из тех и других и складываются наши мысли. Вот что такое внутренняя речь.
Однако если это так, то отсюда следует любопытный вывод: русский человек неизбежно должен думать русскими словами, грузин - грузинскими, француз - словами своего языка: ведь других они и не знают. Иное, конечно, дело люди, "двуязычные": в совершенстве владея вторым языком, они, вероятно, могут "думать" и на каждом из двух, по желанию.
Было бы очень интересно убедиться в этом: если человек может думать то на одном языке, то на другом, так ведь это же и явится лучшим доказательством того, что думает он словами. Иначе какая разница была бы между немецким и финским, русским и узбекским "думаньем"?
Сто или полтораста лет назад русские дворяне воспитывались на французский лад бесчисленными "эмигрантками Фальбала" или "месье Трике". Подобно Евгению Онегину, они потом получали возможность "пофранцузски совершенно" изъясняться и писать. Иначе говоря, многие из них настолько овладевали французской речью, что без малейшего труда то и дело переходили при разговоре с одного языка на другой. А в мыслях?
В повести И. С. Тургенева "Первая любовь" молодой барич пламенно влюбился в девушку-соседку. Он видит ее на прогулке, в саду; однако она смотрит на юношу с пренебрежением и даже не отвечает на его поклон.
"Я снял фуражку, - вспоминает молодой человек, - и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. Que suis-je pour elle?4 - подумал я (бог знает почему) по-французски..."
Вот действительно очень интересное сообщение. По этой короткой фразе можно прежде всего ясно понять, что юный русский дворянин мог не только говорить, но и думать по-французски, то есть французскими словами. Этого мало, он умел думать и по-русски тоже: более того, обычно он думал на русском языке, иначе он не сказал бы "бог знает почему".
Очевидно, человек действительно может думать на разных языках5. Но ведь это же непреложно свидетельствует о том, что он думает словами, а не "образами-картинками". Зрительные образы примерно одинаковы у людей всех наций. "Человечка" и русский, и негр, и вьетнамец, и гольд нарисуют вам почти так, как это сделаете вы сами. А вот спросите иноязычных людей, что´ изображено на таком рисунке, и каждый из них ответит вам по-своему.
| Француз | скажет | омм |
| немец | '' | менш |
| турок | '' | ада´м |
| итальянец | '' | о´мо |
| испанец | '' | о´мбрэ |
| поляк | '' | чло´век |
| болгарин | '' | чове´к |
| финн | '' | и´хминнэн |
| японец | '' | хи´то |
| китаец | '' | жень |
| кореец | '' | сарам |
| и т. д. | ||
Значит, думая на разных языках, люди, еще ничего не говоря друг другу, еще в мозгу, в сознании своем, прибегают уже к беззвучным, непроизнесенным, словам. Из них они и формируют свои мысли. Из слов прежде всего; из слов по преимуществу. Всякие другие образы - вещей, предметов, лиц, всевозможные ощущения - тепло, холод, жажда, - если и принимают участие в образовании этих мыслей, то лишь второстепенное, дополнительное. Они, вероятно, придают окраску им, делают их более живыми и яркими. И только.
Изложенные положения правильны, но не всегда легко укладываются в сознании. Особенно смущают они математиков и техников. Первым кажется, что, кроме
слов, можно думать и формулами. Вторые уверены, будто конструкторы мыслят не словами, а образами деталей будущих механизмов, образами чертежей и планов. Они пишут мне об этом.
Разумеется, это неверно. Любая формула имеет словесное значение.
Сказать (a +b)2 = a2 + 2ab +b2 - это все равно что выразиться иначе: "квадрат суммы двух количеств равен квадрату первого из них плюс..." и т. д. Формула короче, удобнее; поэтому математик предпочитает ее. Но формула - тот же язык: как в письме мы прибегаем к стенографии, так математик, ведя свои рассуждения, пользуется своеобразной "стенологией", искусством сверхсжатой, аккумулированной речи. Однако считать, что ему при этом удается обойтись "без языка", столь же наивно и неправильно, как, питаясь гречневым концентратом, хвастаться, что наловчился обходиться без крупы.
То же и с чертежами всякого рода. Даже Эвклид не воплотил своих рассуждений в чертежах, а создал их как цепь словесных положений: постулатов, аксиом, теорем, доказательств, при которых чертежи являются лишь подспорным пояснением. Любой технический чертеж (скажем, карта мира) есть иное выражение словесного описания предметов. Каждый чертеж необходимо "прочесть", то есть перевести его в слова; "думать одними чертежами" решительно нельзя; "думать одними словами" вполне возможно.
Приведу два очень ясных примера. Водитель машины видит у дороги "чертеж" - дорожный знак поворота. Он тормозит свою "Победу", но лишь потому, что чертеж этот имеет для него словесное выражение: "Через 100 метров - поворот!" Турист, страдая от жажды, ищет на топографической карте соответствующий значок. Но, увидев наконец источник, он не подумает об этом значке. Он мысленно воскликнет: "Вот радость: вода, ключ, родник!" То же мы имеем и в других, более сложных Случаях.
Только наши слова, только язык, позволяет нам думать так свободно и отвлеченно. И, по существу говоря, именно с тех пор, как человечество научилось думать словами, оно и начало "мыслить" по-настоящему. А это могло случиться лишь потому, что в то время человек овладел языком: звуковым языком вначале, а затем и письменной речью.
Все это очень важно. Прежде всего, это решает наши недоумения, связанные со стремлением некоторых людей "говорить душой, без слов". Теперь мы убедились, что так, без слов, многого друг другу не скажешь. Уэллсовы "земляне" также никак не могли бы понять, вслушиваясь или всматриваясь в мысли людей-богов, что они думают: "земляне" и люди-боги не только говорили на разных языках, но на разных языках и думали.
Представьте себе, что, проникнув в голову какого-то человека, вы обнаружили бы, что думает он так:
"Во фоди бу-сы вурус-хуа, во фоди чжунгай-хуа!"
Обрадовало бы вас это? Поняли бы вы эту мысль? Нет, не поняли бы, потому что человек этот думает покитайски, а вы - не китаист, и его мысль нуждается для вас в переводе на русский язык. "Я говорю не по-русски, я говорю по-китайски", - думает он. Но думает, как и говорит, своими, китайскими, словами.
Мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой "природной материи", не существует. Поэтому, если мы захотим узнать, как именно думает, как мыслит человек, по каким законам работает его мышление (а что может быть важнее такой задачи?), нам надо начать с изучения законов языка.
Я полагаю, теперь вам понятно, почему наука о языке является одной из самых серьезных, глубоких и увлекательных наук мира.
Вот так: "я полагаю, теперь вам понятно..." Но за годы, прошедшие после выхода в свет последнего издания этой книги, я получил множество писем. И выяснилось: не все, читавшие ее, убедились, что я прав.
Есть читатели, которым никак не хочется согласиться с утверждением "мысли без слов не бывает". Им кажется, что это не так. Они спорят, они доказывают, что - бывает. Что - может быть. Что это положение - не обязательно... Оно им неприятно! Им хочется освободить мысль от слова, душу от тела.
Какие же доводы они приводят? Среди этих доводов интересней других два или три, вот какие.
"Я дружил с парнем, а потом разочаровался в нем.
Он подошел ко мне, но я сделал такое злое лицо, так посмотрел на его, что он сразу меня понял, отошел и больше со мной не здоровается..."
Или: "Когда моя мама вдруг обнимет меня и начинает целовать, я сразу же читаю ее мысли. Она думает: "Ты моя самая ненаглядная доченька; я тебя ужасно люблю!" Зачем же мне какие-то "слова"? Мы и без них понимаем друг друга!" Так написала мне одна девушка.
Убедительно? Да как вам сказать. Тут все зависит от того, что вкладывать в понятия "мысль", "думать", "понимать".
Когда обсуждается какой угодно вопрос, надо прежде всего точно договориться, что мы подразумеваем под тем или другим словом: ведь у многих наших слов бывает не одно, а несколько близких или даже довольно далеких значений.
Вот, например, мама моей корреспондентки страшно "любит" свою дочку. ЛЮБОВЬ - это высокое и благородное чувство, не правда ли? Но допустим, что дочка "страшно любит" шоколад с орехами. Или - валяться по утрам в постели. Или - сидеть по целым часам у окна, глядя на улицу... Что это - тоже любовь? Почему же нет?..
Но как вам кажется: если захотим представить себе, что значит чувство "любовь" в жизни человечества, можем ли мы сразу иметь в виду, подразумевать под этим словом одновременно и любовь матери к ребенку, и любовь к рыбной ловле, и любовь к сладкому крепкому чаю? Если мы будем смешивать все это воедино, мы наверняка страшно запутаем вопрос и ни к какому решению не придем.
Совершенно так же надо относиться и к словам "мысль", "мышление", "думать", "понимать": каждое из них в разных случаях может означать вещи, совершенно друг на друга не похожие.
Вы проходите мимо привязанной на цепи собаки. Вдруг она щетинит шерсть на загривке, страшно скалит зубы и рычит. Вы замедляете шаги, а потом просто отходите, стараясь не приблизиться на опасное расстояние...
Как по-вашему - вы "прочитали мысли цепного пса", а он "без слов" передал вам свои мысли? По-моему, он выразил свое темное чувство неприязни, напугал вас. И вы благоразумно отошли, тоже не раздумывая много, а просто слегка испугавшись. Мыслей - никаких. Ощущений, настроений, впечатлений - сколько угодно. Но я нигде в моей книге не утверждал, что чувства, ощущения, впечатления, переживания могут быть выражены только словами. Их можно выражать "и словами" и еще множеством иных способов: диким хохотом, горькими слезами, печальной миной, восторженными скачками, дрожью во всем теле, нахальным посвистыванием, ядовитой улыбочкой - на тысячу ладов. Но при чем тут "мысли"?
А теперь вспомните моего первого корреспондента. Он скорчил, когда к нему приблизился ставший ему ненавистным друг, свирепую и неприязненную физиономию. Он мог бы, для пущей понятности, показать тому кулак или даже плюнуть в его сторону. Но какая же разница между его поведением и поведением собаки на цепи? И там и там выражены только чувства. Никаких "мыслей" не было и в помине. Чтобы они обнаружились, разочарованный молодой человек должен был бы сказать своему новому недругу: "Я вчера убедился, что ты трус и лжец. Я с тобой не дружу. Убирайся!" Вот тут тот понял бы что-то. А так он просто "почувствовал неприязнь". И - только.
И милая девушка, нежничая со своей мамой, тоже несколько преувеличивает свое умение "читать материнские мысли". Чувства - да, да и то лишь довольно приблизительно, так, в общем.
Есть очень популярная песенка на слова Исаковского. В ней другая девушка с огорчением рассказывает, как:
... ходит парень
Возле дома моего:
Поморгает мне глазами,
И не скажет ничего...
И - кто его знает,
Чего он моргает?..
Вот видите: чувство-то свое этот парень, бесспорно, выражает бурным морганием. Но девушке хочется, чтобы он хоть что-нибудь, в дополнение к этому морганию сказал. Чтобы он по поводу своего чувства выразил и какую-либо мысль. Чтобы чувство его выразилось "членораздельно", то есть словами.
Так вот и оказываются не слишком убедительными ЭТИ аргументы против моего утверждения. Они основаны на том, что понятия "мысль", "думать", "понимать" страшно расширяются.
Человек говорит "мысль", а имеет в виду "чувство", "переживание", "впечатление", "побуждение". И предмет спора расплывается. Незачем доказывать, что "чувства" мы нередко выражаем без всяких слов, ну, скажем, при помощи музыки. Мы не столько "понимаем" их, сколько "заражаемся" ими.
А так как, выражая и наши мысли, мы обыкновенно окрашиваем их своими чувствами, бессловесное и словесное смешивается, и отделить их одно от другого не так-то легко.
Близко к этому "аргументу" стоит другой. Мне пишут: "Как же вы так нераздельно связываете слово и мысль, когда существует, например, живопись, которая любую мысль может передавать без. всяких слов?" .
В этом возражении тоже есть секрет, который "возражатели" упускают из вида. Когда мы говорим о мысли, которую выражает, скажем для примера, картина И. Левитана "Вечерний звон", мы по-настоящему имеем в виду целый сложный клубок впечатлений, настроений, образов и мыслей, которые созерцание этого чудесного полотна в нас вызывает. А вовсе не обязательно те мысли, которые проходили в голове художника, когда он свою картину писал.
Достаточно постоять в Третьяковской галерее в Москве перед этим холстом и послушать, что говорят люди, им любующиеся, чтобы убедиться, что каждый видит в нем "свое", переживает прелесть изображенного по-своему. Тот, кто бывал в Плесе на Волге, вспоминает свои впечатления от виденного там, ищет сходства. Любитель природы восхищается, как удивительно переданы цвета, оттенки, чуть ли не звуки и запахи теплого летнего вечера на воде. Людям постарше и на самом деле начинает слышаться влажный и задумчивый вечерний Церковный благовест. Но очень вероятно, что это впечатление возникает не столько под воздействием того, Что на картине написано, сколько в связи с тем, что под ней подписано. А подписано там два слова: "Вечерний звон".
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он... -
говорится в очень известном стихотворении поэта XIX века И. Козлова. И спросите вы хоть у сотни людей, прочитавших это стихотворение, о чем оно говорит, и все сто ответят: "Ну, прежде всего о вечернем звоне... Всякие мысли, связанные с воспоминаниями о церковном вечернем звоне". Совершенно невероятно, чтобы кто-либо подумал, что в этом стихотворении описывается закат, или вечер на реке, или тихая обитель. А созерцая левитановскую картину, можно назвать ее любым из этих имен, и опровергнуть ваше восприятие будет невозможно.
Вот почему, говоря о мысли того или иного произведения живописи, музыки, скульптуры, мы вкладываем в это слово совершенно иной смысл, чем говоря о мысли, воплощенной в слове. В картине нет главного для человеческой мысли - понятий. Есть образы. В музыке - тоже. А я в моей книге рассуждаю только о мысли, построенной на понятиях. О мысли чисто человеческой. О мысли, поддающейся логическому анализу. И вот такая мысль невозможна без слова, потому что именно слово организует, закрепляет, образует в нашем мозгу понятие.
Третье возражение встретилось мне впервые недавно, но оно стоит того, чтобы его здесь разобрать.
"Вы неправы! - написал мне один студент. - И вот почему. В мире - множество, да нет, не множество, а бесконечное число всевозможных вещей. Предметов, явлений, действий, состояний. По вашему мнению, мы не можем "думать" о них, если не знаем их названий - слов? Но ведь слов во всех языках, в том числе и в русском, не бесчисленное множество. И все-таки мы преспокойно можем "представить себе" любую вещь, а значит, и "подумать о ней". Как же? Выходит, что - без слова? Ведь на каждую "вещь" мира не приходится по одному слову в языке..."
Аргумент выглядит убийственным. Что же я написал в ответ моему критику?
Я написал ему вот что.
"Замечали ли вы, что к бесконечному множеству существующих вокруг нас "вещей" мы, люди, относимся совершенно неодинаково. Есть такие, которые нам по тем или другим причинам "существенны". Мы их непрерывно видим, всегда "замечаем". А рядом кишит муравейник других вещей, не представляющих для человека (а иногда и для человечества) ни малейшего интереса, никакой ценности. Люди смотрят на эти вещи, но не видят их.
Пример? Пожалуйста. Горожанин приехал на дачу. Перед избой, где он поселился - лужайка. Спросите его, что растет на ней, он скажет: "трава". И будет прав.
Спросив о том же у хозяина дома, колхозника, вы получите другой ответ: "На горушке - клеверишко есть, тимофеевки немного... А к речке - всякая дурь: белоус, осока... Ну, копны две сена станет".
Хозяин тоже будет прав. По-своему.
Но стоит к дачнику приехать в гости другу-ботанику, он поднимет приятеля на смех. "Как - трава? Что значит - "трава"? Да тут на каждом квадратном полуметре - целый ботанический сад! Вот, верно, клевер; притом - красный. А вот - белый клевер. Вот, пожалуйста, три вида лютиковых. Да, тимофеевка, но и ёжа есть, и лисохвост есть... Тут, где посырее, тень, - звездчатка, она же - мокрица. И - манжетка... И мята. А около куста - валерьяна..."
У первого на всю луговину нашлось одно слово; второй сумел назвать своих зеленых друзей и врагов. А третий - специалист - засыпал вас словами-названиями... И все травы оказались названными; каждая - по-особенному.
В 1894 году мир знал два вида лучей: световые и тепловые. В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл новые лучи, невидимые, нетеплоносные, но проникающие через непрозрачные тела. Понятно, что для этих таинственных лучей у человечества не существовало слова-названия: их же никто не знал, не видел, не ощущал.
Рентгену надо было сообщить о своем открытии миру. И первое, что он сделал, он придумал для своих лучей слово. Он назвал их "x-лучами" (мы теперь зовем их "рентгеновскими").
За следующие два года он опубликовал о них три важных сообщения. Его лучи стали всемирной сенсацией. О них говорили повсюду. А как можно было бы о них "говорить", если бы Рентген не создал называющего их слова? При этом он создал его не "из ничего". Слово "лучи" было давно в ходу. Слово "икс" у математиков значит "неизвестное", Название для нового предмета, новое слово было образовано из двух старых слов, из их сочетания.
И ведь если в человеческих языках живут сотни тысяч, может быть, даже миллионы ("всего только миллионы"!) слов, то число возможных сочетаний из них - по два, по три, по пять - немыслимо выразить никакой доступной воображению величиной. Ими может быть назван любой вновь открытый в мире предмет, любое ставшее интересным людям явление, любое понадобившееся им понятие.
Миллионы лег жила в Индийском океане странная двоякодышащая рыба, пережиток давно ушедших веков. Европейцы ее ни разу не видели и, естественно, никак не называли. У нее не было имени на языке белых людей.
Но вот она случайно попалась на глаза ученой женщине-ихтиологу. По всему свету прокатилось известие о рыбе-диковинке, о рыбе-сверхветеране. И тотчас же родилось новое слово: в честь открывшей чудо молодой ученой, мисс Ля´тимер, она теперь зовется "лятиме´рией". Каждый годна земле открывают сотни и тысячи новых видов животных и растений. Ни один из них не остается без слова-имени. Человечество достигнет других планет, найдет там иную флору и фауну. И каждый тамошний зверь, каждая травка получат свое имя.
Нет ничего более причудливо-разнообразного, нежели формы плавающих в небе облаков. Недаром писатель Тригорин в пьесе А. Чехова "Чайка", сетуя на хлопотливость своего ремесла, жалуется: "Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль..."
Тысячелетия люди не интересовались очертаниями облаков. Не было и слов для их обозначения. Но вот метеорологи заметили, что некоторые виды облаков предвещают перемену погоды, и сейчас мы уже различаем "кумули" - "кучевые", "цирри" - "перистые", "страти" - "слоистые", "нимби" - "дождевые"... И стоит людям заметить, что особое значение для чего-либо имеют "роялевидные" или "верблюдообразные" облака, и для них будут созданы обозначающие их слова-названия.
Ну, теперь, я думаю, я убедил вас? Что же касается до еще одного возражения, до тех читателей, которые указывают на "думающих" кошек и собак, муравьев и попугаев, слонов и амеб, то об этом я много говорю в главе "Человек и животное" и тут не буду предварять самого себя.
Скажу только: те, кто говорят о "мышлении" животных, подразумевают под этим словом не то, что, употребляя его, имею в виду я. Потому что я говорю всегда только об одном виде "мышления" - человеческом. Называю мышлением не все то, что может содержаться в сознании и человека и зверя, а только то, что воплощается в понятия и умозаключения людей.
Если я думаю: "Человека от животного отличает именно способность мыслить понятиями", - это мысль.
Если я "думаю": "Ах ты..." - и в ярости стучу кулаком по столу, это не мысль. Это - выражение моего неопределенного, невыразимого словом чувства. Крик души, но не голос ума.
Всюду в моей книге я обхожу такие "крики души" молчанием.
Пожалуй, добавлю еще одно довольно любопытное наблюдение.
Лет двадцать назад по всей нашей стране давал свои "сеансы" интересный "угадчик мыслей" Вольф Мессинг. Сеансы заключались в том, что присутствующие, втайне от Мессинга, придумывали для него часто довольно сложные "задания". Появлялся Мессинг. Взяв за руку одного из публики, знающего, что именно содержится в задании, он требовал, чтобы тот, не произнося ни слова, думал, что надо сделать. И, после некоторых усилий, выполнял задание - подходил к нужному человеку, доставал у него из портмоне нужное число монет заранее условленного достоинства, разыскивал в зале какой-либо спрятанный предмет, брал у кого-либо книгу и указывал на слова, которые были заранее выбраны с разных страниц, и тому подобное.
В разговоре со мной любопытный человек этот решительно утверждал, что для него совершенно безразлична национальность и язык того, от кого он узнает чистые МЫСЛИ, составляющие задание. Если бы он был прав, мои соображения о мышлении и языке, разумеется, были бы уничтожены на корню.
Но вот что случилось на нескольких таких "представлениях" Мессинга. Два первых случая я наблюдал сам, о третьем мне рассказал писатель М. Л. Слонимский.
Было придумано "задание", выполняя которое Мессингу надо было раскрыть женскую сумочку, застегнутую замком-молнией, вынуть оттуда кошелечек, тоже снабженный молнией, и уже дальше действовать с монетами.
Угадыватель мыслей очень долго не мог выполнить требований, не понимая, что думает актриса, руку которой он держал. А потом, стараясь объяснить свои трудности, сердито сказал: "Как я мог сообразить, в чем дело, когда она все время думала про гром и молнию..."
Актриса думала вовсе не про "гром и молнию", а про молнию-замок. И когда Мессингу это объяснили, он раздраженно пожал плечами. "Откуда я знал, что это тут так называется?"
Австрийский немец по языку, он не подозревал, что такой запор по-русски зовется молния; по-немецки это Reibverschluß, то есть что-то вроде: "ползучий запор".
Совершенно ясно - он воспринимал не образ, а слово, и раз слово было ему неизвестно, расшифровать его не мог.
В другом случае Вольфу Мессингу было задано набрать из карточной колоды несколько строго определенных карт: десятку, валета и пр., и т. п. Было сказано (между теми, кто это задание составлял), что число очков на этих нескольких картах должно в сумме составить "21", как в игре в "двадцать одно".
Исполнитель очень быстро, без всякого труда выбрал нужные карты и заметался. "Я должен что-то еще сделать, а что - не могу понять!" - приходил он в отчаяние. Ему указали, что задание выполнено. "Нет, нет! - протестовал он. - Я ясно ощущаю: он думает почему-то еще и о цифре двадцать один..."
Игра в "двадцать одно" распространена далеко не везде в мире. Числовое значение карт с рисунками (дама, валет, король) не везде одинаково. Мессинг "слышал" карты, названные словами, но не знал, сколько каждая "стоит", и потому претерпевал неудачу. А его "руководителю" в голову не приходило подумать: "Валет ценится так-то или дама - так-то". И воспринятое угадчиком слово "двадцать одно", название числа, повисло в воздухе.
Если бы дело было не в словах, такого недоразумения не могло бы получиться.
Наконец - третье. Однажды Мессинг также не смог выполнить задачу только по той причине, что человек - передатчик мысли, требуя, чтобы он вынул из сумочки определенный предмет, называл в уме этот предмет не "перчаткой", а "варежкой". Слово "варежка" иностранцу Мессингу оказалось неизвестным, и стало совершенно очевидно, что он оперирует именно "словами": ведь образ такой перчатки безусловно был бы им воспринят без всякого труда.
По-моему, все три случая великолепно работают на пользу той теории, которую я защищаю на всех предыдущих страницах этой книги.
1Здесь и всюду дальше в цитатах курсив мой. - Л. У.
2А. С. Пушкин. Домик в Коломне. (Из вариантов, не вошедших в окончательный текст поэмы.) "Фригийский раб" в данном случае Эзоп, знаменитый баснописец Греции, мастер двусмысленного, "эзоповского" языка.
3Но радоваться этому еще рано. Я ведь просил вас не просто подумать: "дом", но подумать: "на улице стоит дом". А "вообразить себе", что "дом стоит", так, чтобы можно было сразу понять, что он именно "стоит", а не "стоял", не "встанет", не "будет стоять", - разумеется, вам не удастся. Попробуйте, и вы легко убедитесь в этом.
4Что такое я для нее? (Франц.)
5Когда эти строки были уже написаны, я получил от одного из вдумчивых читателей "Слова о словах" интересное письмо. Товарищ Хосе Фернандес, испанец, с двенадцати лет живущий у нас в СССР, сообщил мне, что обо всем, чему он научился в школе в Испании, то есть до пятого класса, он до сих пор думает по-испански. На этом языке он ведет устный счет в уме: делает сложение, вычитание, умножение и деление. Когда ему приходится считать среди русских по-русски, он неизбежно сбивается. Воспринимая русские фразы по-русски, он встречающиеся в них цифры мысленно переводит на испанский язык. Ему часто случается, говоря с испанцами по-испански, внезапно "по ошибке" переходить на русскую речь. Наоборот, говоря по-русски с близкими людьми (но только с близкими), он порой незаметно "сбивается" на испанскую речь. Это крайне любопытно.
То же самое рассказывала мне одна знакомая армянка, с детства
владеющая и родным и русским языком. О своей юности, об
Армении, о родных и семье она всегда думает по-армянски. Все же,
что касается ее жизни в Ленинграде, учебы в вузе, работы, - все
эти мысли приходят ей уже на русском языке. Лучших доказательств
справедливости изложенного выше нельзя и требовать.
| <Prev | Contents | Next> |